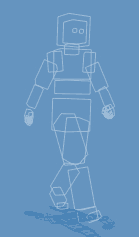| |
***
Навсикайя должна понимать, что, пока Одиссей
на пустом берегу сушит весла и порванный парус,
она может к нему подойти, и присесть, и тесней,
чем веревка, прижаться. |
|
Многоопытный
муж хитроумно направил свой взгляд
на худые и смуглые ноги и молвил: «Однако»,
и добавил, что близится ночь, а огни не горят,
но стыдливая дщерь не заметила тайного знака.
Да
и вправду темнело. Она наклонилась к лицу
(ну лицо как лицо! ей ли верить в красивые лица!).
Он рассказывал ей, как Елену тащили к венцу,
как погиб Ахиллес – но, конечно, молчал про Каллипсо.
И рука
совершала прогулку от шеи и плеч
до шершавых сосков и до новых невиданных таинств.
Из их встречи одно лишь соитье могло проистечь,
как того ни беги. А они и бежать не пытались!
Навсикайя
умолкла. Он все же промолвил: «Лежи»,
повернулся анфас, прежде бывший к ней вполоборота,
и, уже тренируясь стрелой пробивать кругляши,
сделал резкий рывок, словно силясь настигнуть кого-то.
Навсикайя
стонала. Шуршала волна. Но меж тем
столь безлюдно и тихо осталось тогда побережье,
что казалось игрой и картиной слияние тел –
получетких теперь, совершенно невидимых прежде.
Он
шептал: «Пенелопа», – она отвечала: «Прости».
Холодало под ночь, и всходила звезда на востоке.
Одиссей ощущал, что уже на исходе пути,
и циклопы сидели в пещерах – все так же жестоки.
|